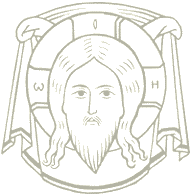09 мая 2014 г.
Церковь и советская властьСоветская власть старалась всеми мерами уничтожить Церковь, а мы, верующие, противостояли молитвой, смирением, любовью. Больше мы ничего не могли сделать. Только в этом и было противостояние.
Хотя Церковь Божия — это Царство не от мира сего, но оно существует в этом мире. Тогда в мире Церковь не имела ничего, а в руках советов была власть.
Власть жесткая, особенно не подымешь голос. А если ты будешь кричать или слишком проявлять активность, то тебе быстро найдут место. Хотя это «место» очень быстро находилось и для тех, кто никоим образом с властью бороться не собирался, а просто жил своей обычной жизнью.
Мало того, были «стукачи», которые подслушивали, доносили, а иногда и вовсе клеветали. Господствовал организованный атеистический контроль. Поэтому когда приходилось общаться с приезжавшими из-за рубежа, им говорили, что у нас свобода, и тот, кто говорил правду, мгновенно исчезал, порой навсегда: был человек — и нет человека.
Причем никто ничего не знал, не ведал, что происходит. Например, на моей родине, в Белоруссии, я знал трех священников. Очень активные, прекрасные люди, образованные, обладающие проповедническим даром. Я как раз учился в семинарии. Приезжаю после окончания второго курса домой, а мне говорят: «Всех троих взяли». За что, почему? Никто ничего не знает.
Все это было таинственно, непонятно, и мы по-настоящему и не ведали, что происходит. Даже, если хотите, думали, что они в чем-то виновны. Ведь иначе как это можно: ни с того, ни с сего людей арестовать и отправить в лагерь лет на десять?
Судьба у этих трех арестованных священников была разная и очень, я бы сказал, поучительная.
Одного из них я меньше знал, он был из села Гнездилова, которое находилось подальше от моего родного села. Второй батюшка был из нашего прихода, я его прекрасно знал, потому что ходил в этот храм Божий, пел там, прислуживал. Хорошо знал его семью. А третий — наш благочинный, отец Михаил Кузьменко. Он оставался верен Богу и себе до конца своих дней.
Спустя некое время после исчезновения священников мы узнали, что они, якобы, участвовали в какой-то группе, которая всю свою жизнь посвятила одной цели: уничтожить Сталина — того самого «отца народов», которого они не видели ни разу в жизни ни живого, ни мертвого. Это же надо придумать, что священники в далекой Западной Белоруссии все свои силы направили только на то, чтобы посягнуть на бесценную жизнь нашего вождя. Но именно так звучало обвинение. И всем им дали по десять лет — мне так говорили.
Один из этих священников в лагере скончался, и поэтому о его судьбе практически ничего нам неизвестно. Второй, отсидев десять лет от звонка до звонка, вернулся домой окончательно сломленным.
Я его очень любил, и он ко мне относился хорошо, потому мне хотелось ему как-то помочь, восставить человека, чтобы он вернулся к служению. Но ничего у меня не получилось. Хотя батюшка сначала загорелся, но потом убоялся. И даже, как мне опять-таки рассказывали, боялся ходить в церковь. Он столько перенес в лагерях горя, страданий, и так страшился вновь оказаться там, что был не в состоянии снова прийти в храм Божий.
Я думаю, конечно, дома он молился, потому что не допускаю мысли, чтобы он совсем забыл Бога, но к храму даже боялся приблизиться. То есть, сломлен был окончательно.
Когда после его возвращения домой мы беседовали, я спрашивал: «Батюшка, ну скажите мне хотя бы об одном таком приеме, который там применяли, когда вас допрашивали?» Он долго вообще ничего не говорил.
Но как-то мы разговорились, и у него вырвалось: «Представьте себе такую вещь: вот берется четырехугольная табуреточка, тебя сажают на маленький уголок и задают вопросы. Причем сами следователи меняются, они не выдерживают, устают, даже сидя в кресле, поскольку длится этот допрос почти бесконечно. „Где ты участвовал? Что ты делал? Кто сообщники? Подпиши вот эти документы“ От напряжения человек очень быстро терял сознание». А потом батюшка предложил мне: «Вы попробуйте на такой уголочек сядьте, посидите. И увидите, какие появляются страшные боли».
Я попробовал. Это ужасно. Я бы там не просидел бы и несколько минут. А они сидели часами. Теряли сознание, падали. Их обливали ледяной водой, вновь заставляли сесть — и снова, до тех пор, пока ты не подпишешь то, что следователям было нужно.
Рассказав все это мне, священник испугался и много раз просил никому не говорить об услышанном: «Если об этом узнают, то мне будет очень плохо».
Третий священник, наш благочинный, отец Михаил Кузьменко — великолепный, образованнейший человек, выпускник богословского факультета Варшавского университета. Судя по всему, обучение там было поставлено очень хорошо, потому что окончившие этот факультет люди выходили хорошо подготовленными к служению.
Отец Михаил был прекрасным проповедником. Он сыграл в моей жизни немалую роль, потому что от него зависело направление меня в семинарию. Поскольку он был благочинным нашего округа, то мне следовало после всех предварительных инстанций все документы принести к нему, и он со мной должен был побеседовать, узнать, кто я и на что способен, потому что тогда при поступлении многое зависело от рекомендации.
Благочинный со мной довольно долго беседовал. Для меня эта беседа была настоящей встречей сына с отцом. Она на меня произвела такое глубокое впечатление, что я даже до сих пор, когда вспоминаю о ней, думаю: какие же все-таки у нас были — и есть — хорошие люди. Без этого Церковь никогда не существовала и не будет существовать.
Потом, когда я уже учился в семинарии, приезжал и посещал его приход, особенно в праздничные дни. Я читал в храме, где он служил, пел, меня приглашали за трапезу, вместе со всем духовенством и с родными священника. И всегда любовался батюшкой, настолько он был добрый.
Помню, как приезжал его сын. Он был каким-то чиновником в советском аппарате. В памяти осталось, как он говорил: «Папа, если бы ты знал, как мне мешает мое происхождение!» В ответ отец Михаил ласково погладил по головке своего взрослого сына. Было очень приятно это наблюдать со стороны.
Вообще он обладал широкими познаниям, а самое главное — глубокой, настоящей любовью к человеку.
И вот ему тоже дали десять лет. По тому же обвинению, что было предъявлено и первым двум священникам. Ведь они шли по одному делу, как группа, замышлявшая преступление.
Отсидев десять лет, священник вернулся, приступил к своему служению. И как мне рассказывали, защитил кандидатскую работу в Ленинградской духовной академии, и был назначен на приход, где продолжал свое служение, и там, на этом приходе, скончался. Но пока у меня нет документальных подтверждений тому, что он защитил кандидатскую диссертацию. На мой «запрос» из Санкт-Петербургской Духовной Академии ответили: «В списках нет».
Вызов «неизвестно куда»
Это скорбное воспоминание.
После поступления в Семинарию очень скоро стали нас одного за другим вызывать — куда, зачем — никто ничего не говорил, соблюдалось какое-то могильное молчание. Уходили по вызову рано утром, а возвращались поздним вечером. Возвращались в страшном состоянии — уставшие, измученные, как будто за один день постаревшие на несколько лет, с изменившимися лицами (казалось, что появились первые морщинки).
Менялось и поведение студентов — как-то замыкались, уходили в себя; пропадала у них прежняя живость, шутки, даже улыбки. Что происходило — оставалось тайной. Постепенно мы стали догадываться, но от этого становилось ещё страшнее. Тем не менее, я не помню случая, чтобы кто то, побывав «неизвестно где», бежал из Семинарии… Меня, слава Богу, не вызывали.
Вызовами дело не ограничилось. Видимо, решено было провести более тщательный и тотальный допрос — «люди в штатском» прибыли к нам сами. Для них были отведены большие аудитории. Теперь и меня не миновала чаша. Вызвали. Захожу и вижу сидящего, развалившись, за столом, на котором куча бумаг.
Взглянув на меня, он саркастически улыбнулся, перелистал дело, снова взглянул. Я продолжал молча стоять. Не помню точно, что он меня спрашивал. Кажется, задал самые трафаретные вопросы: кто направил в Семинарию, верую ли я, есть ли родственники за границей.
Атмосфера была настолько тяжёлой, что я вышел оттуда побледневший, с дрожащими ногами, хотя за мной была лишь одна так называемая «вина», что я жил с 1941 г. до 1944 г. на оккупированной территории, и родной брат Иван был увезён на работу в Германию. Тогда и это считалось преступлением. (!)
(Из книги К. Е. Скурата «Воспоминания. Труды по патрологии»)
Вызов «известно куда»
К сожалению, и в Московской Духовной Академии было нечто подобное с «вызовами», как и в Минской Духовной Семинарии, но проводилось оно более профессионально: вызывали якобы в военкомат по делам призыва в Армию, а там и определяли «способности» человека. О цели этих вызовов сегодня — в свободной России — знают все. О них говорят сами пострадавшие.
Меня, слава Богу, и здесь не вызывали во время учёбы. А потом? Потом да, вызывали, но я решительно отказался от всего, что мне предлагали, и не убоялся угроз. Верю, что устоял я по действию молитв моих близких — по милости Божией. Слава Богу! Гордиться и хвалиться здесь нечем — стоять твёрдо в Святом Православии — это обязанность, долг, это наше призвание. Устоял — благодари Бога, не устоял — значит, не выдержал искушения, страха времени, а это грех падения — кайся, исправляйся и не твори ничего подобного.
(Из книги К. Е. Скурата «Воспоминания. Труды по патрологии»)
Под страхом расстрела: днем немцы, ночью — партизаны
Главным впечатлением от войны у меня сохранилось знание, что война — это страшнейшее явление в нашей жизни. Все остальное существующее на земле даже нельзя сравнить с ней. Расстояние — как от неба до земли. Это зло страшнейшее, это горе, страдания, причем не у одного человека, а всего народа.
С войной приходит голод. До сих пор помню вкус всей травки, которая растет у нас вдоль речки. И травка — это еще хорошо, а то и вообще ничего не было. Собирали картошку многолетней давности, которая оставалась на полях, ели ее вместе с песком.
Я был на оккупированной территории и на передовой, но не с автоматом в руках. Когда немцы отступали, мы всем селом ушли в болото. А орудийный бой шел как раз через нас, потому что ни одни не могли в болото въехать, ни другие.
Наступали немцы парадно: с пением, махали «ручками», торжественно, улыбаясь. А отступали совсем другие — узнать их было невозможно: злые, свирепые, жестокие. Попадаться на глаза им было очень опасно.
Во время оккупации, когда у нас было двоевластие — уже активно действовало партизанское движение — мы даже не знали, кто лучше, немцы или партизаны. Потому что и одни, и другие нам грозили только одним: «Расстреляем, расстреляем!» Хотя мы не служили ни тем, ни другим.
Мы жили в сельской местности, мы знали свой труд. В конце концов, сельский житель о чем думает? О том, чтобы спокойно работать, возделывать свою земельку, спокойно собирать урожай, спокойно сходить в храм Божий, помолиться, отдохнуть душой, вот что ему нужно. А когда к тебе приходят и говорят: «Если будешь сотрудничать с партизанами (с немцами) — расстреляем!» — ты постоянно живешь в страшном напряжении. Тяжело это было.
Война приучила меня к терпению. К тому, что надо быть готовым к любым обстоятельствам, которые могут происходить в жизни. А труднее, чем того, что происходит во время войны, на земле, вероятно, и не бывает, потому что тогда рушится абсолютно все.
И ты каждый день живешь под страхом смерти. Если тебя партизаны пожалеют, так немцы придут, расстреляют. То есть ни днем, ни ночью не было никакого покоя, особенно последние (1943 — 1944) годы оккупации, когда немцы стали терпеть поражение и начали отступать. Они уже в каждом видели врага, видели партизана и могли расстрелять, безо всякого суда.
Закрытая школа
«Невольно я вспомнил сейчас военный 1942 год. Первого сентября этого года я пошёл в школу, чтобы продолжить обучение. Прихожу, двери все открыты, никого нет. Обошёл все классы — ни души. Сел за стол и жду. Слышу шаги, открывается дверь — и на пороге появляется старушка с ключами в руке. „Ты зачем пришёл, сынок, учиться?“ — спросила она. „Да“, — ответил я. „Занятий не будет, я пришла запереть дверь“. Тут я всё понял. Собрал свой небогатый школьный скарб, заплакал и ушёл. Растроганная старушка пыталась было меня успокоить, но от этого я ещё сильнее заплакал… И, тем не менее, я продолжал учиться самостоятельно.
Осенью 1943 г., когда оккупационные власти сожгли наше село, из пожара я вынес и взял с собой только книги. (Какая же была досада потерять потом их — кто-то взял и „зачитал“).
Желание учиться и привычка работать самостоятельно очень и очень пригодились мне при подготовке к поступлению в Духовную Семинарию. Работая в поле, я распевал гласы, учил тропари, историю двунадесятых праздников, Священную Историю. Молитвы мне не надо было учить, т. к. я их знал, ибо рос в православной семье. А церковнославянский язык тем более, ибо я часто читал в храме часы, Апостол, молитвы перед святым Причащением и после».
(Из книги К. Е. Скурата «Воспоминания. Труды по патрологии»)
Троице-Сергиева Лавра и Московская духовная академия
В Троице-Сергиевой Лавре я оказался, когда, приехал поступать в Духовную академию. Сразу же она оказала на меня незабываемое впечатление. Я зашел в храм во время молитвы и, стоя там, подумал: «Я отсюда никуда не уйду. Буду проситься, чтобы меня здесь оставили. Если не поступлю, попрошу, чтобы мне дали метлу, буду подметать дорожки Лавры».
Об инспекторе Академии Николае Петровиче Доктусове я вспоминаю с самыми теплыми чувствами. Инспектор, как правило, встречался со всеми абитуриентами и вел предварительную беседу или во время экзамена, или перед экзаменом. Я, конечно, тогда, может, и не придавал этому значения, только потом уже понял, что проводилось своего рода испытание личности — инспектор смотрел, что каждый из нас представлял собой.
Помню, как зашел в кабинет к этому пожилому человеку (потом он преподавал у нас Священное Писание Нового Завета, и мы поняли насколько этот человек высокоинтеллектуальный и высокого духовного устроения).
Началась беседа, во время которой Николай Петрович среди других вопросов задал мне такой, самый обычный. «Скажите, пожалуйста, какие предметы вы будете сдавать?» А нам нужно было пять предметов сдавать, и я готовился целое лето, не отрываясь от учебников. Я стал называть — четыре назвал, пятый — забыл совершенно. Вылетело из головы! Он на меня посмотрел, улыбнулся: «Ну, ладно, — говорит, — идите».
Хотя и сегодня могу назвать предметы, которые мы сдавали: Священное Писание Нового Завета, Догматическое богословие и Общая Церковная история — три очень основательных предмета, которые мы сдавали устно. Потом два предмета письменно — это Основное богословие и Проповедь. Я даже до сих пор помню тему по Основному богословию — «Внутренние и внешние признаки Божественного Откровения». К счастью, это сочинение у меня сохранилось. Хочу его, как память, опубликовать.
Могу даже похвастаться, что во время вступительных экзаменов я занял первое место, хотя среди абитуриентов были солидные, интересные люди. Когда я туда приехал, поначалу думал: «Куда мне с сельским белорусским строем и устроением лезть, когда здесь такие великие люди — подготовленные, серьезные, интересные, хорошо одетые». А я приехал в суконном френче. Другого ничего не было.
Это сейчас люди забыли, что значила война и послевоенное время. Тогда я не знал, например, на какие средства доехать домой — у меня не было денег вообще и некому было мне их дать.
В Духовной академии: Надо не читать, а учить
Профессор Николай Иванович Муравьёв (1891–1965) преподавал Историю Древней Церкви. Читал спокойно, спрашивал строго. Во время занятий обычным был такой диалог профессора со студентом:
— Вы читали?
— Читал, Николай Иванович, читал.
— Нужно не читать, а учить.
И ставил двойку, которую исправить было нелегко.
(Из книги К. Е. Скурата «Воспоминания. Труды по патрологии»)
Учеба в семинарии и гильза от немецкого снаряда
Современный — сегодняшний студент, вероятно, думает, что на столах стояли лампы, с потолков свешивались люстры. Было всё иначе — сами воспитанники готовили дома «коптилки», привозили их в Семинарию, заливали керосином и зажигали. Но света они дают мало, а заниматься возле них приходилось долго — и мы вынуждены были заняться их усовершенствованием.
Один из моих одноклассников ухитрился сделать коптилку из гильзы трофейного снаряда — гильза была сплющена и в неё вставлен широченный фитиль. Коптилка эта уподоблялась факелу и собирала вокруг себя целую группу ищущих знаний.
Я не в состоянии был так изощриться, но тоже усовершенствовал свой светильник — достал немецкую гранату с деревянной длинной ручкой, ручку отбросил, тол удалил, а в самом железном корпусе сделал четыре дырки, в которые вставил четыре трубочки, а в них втянул фитили. Свет увеличился в четыре раза!
(Из книги К. Е. Скурата «Воспоминания. Труды по патрологии»)
Урок от студентов
Студенты дали мне очень хороший урок: не выходить из себя. Именно благодаря им я этому научился.
Иногда они доводят до такого состояния, что срываешься, а потом чувствуешь, насколько это некрасиво, неправильно, и как твоя вспышка может сказаться отрицательно на всех остальных. И вместе с тем, по-настоящему осознаешь, что ты, имея власть, вышел победителем, но все-таки нравственно побежден. Когда человек терпит нравственное поражение, ноль — цена его победе силой.
Я имею такую привычку: спрашиваю студента и сразу называю оценку, которую ставлю. Это я вывел из школьных уроков, от преподавательницы по математике. Когда объявляю отметку «тройка», студент начинает — правда, редко — протестовать и говорить о том, что это неправильно и что-то в этом роде. А когда человек высказывает такие вещи, то, естественно, хочется его поставить на место. Раньше я, как говорится, применял власть, ставя их на место. А потом увидел, что даже здесь надо действовать терпеливо и с любовью.
Когда я начал таким образом поступать, ситуация изменилась — я всегда выходил победителем. И сейчас, когда я с кем-то встречаюсь из молодых преподавателей, я стараюсь ему сказать: «Терпи всегда. Ни в коем случае не выходи из себя. Если ты вышел из себя, то ты проиграл».
Вот не так давно ставлю отметку студенту, и он сразу: «Я против!» Вернулся к своей парте, какую-то свою книжку взял, и — на выход. Я говорю: «Знаете, вы напрасно уходите, у нас еще урок продолжается, будем материал интересный рассматривать». Он только взглянул на меня и вышел.
Потом проходит минут пять, он, видимо, немножко остыл, открывается дверь, тихонько входит. «Вот, хорошо, — говорю, — что вы вернулись. Как раз мы закончили опрос, будем разговаривать дальше». Он, понурив голову, прошел, сел на место, потом посидел-посидел некоторое время, подходит: «Константин Ефимович, разрешите мне выйти?» Я говорю: «Пожалуйста, выходите». То есть уже попросил разрешения.
На следующий день выхожу из аудитории, смотрю, кто-то за мной бежит. Только в коридор вошел, он: «Константин Ефимович, простите меня, я был неправ». Я ему протянул руку, пожал. Всё, с Богом.
А если бы я начал доказывать, вспылил, ответил бы тем же, было бы со стороны и смешно смотреть, и некрасиво, и действие было бы совершенно другого порядка.
Поэтому студенты нас очень многому учат. Тем более, если что-то такое возникает, с их точки зрения, критическое, то начинаешь особенно задумываться над тем, что есть какие-то огрехи у тебя, и надо их непременно исправлять. Иначе на кого же я буду похож, если буду говорить прекрасные слова, а после них покажу себя в совершенно другом виде. Получится настоящее лицемерие.
А лицемерие никогда пользы не приносило, никогда действия доброго не оказывало. Наоборот, приносило только вред.
Православие и мир