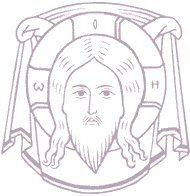 |

|
||||||||||||||||
Полезная ссылка: Иконостас Троицкого собора и проблемы периодизации русской живописи первой половины XV века: историографический аспект проблемы
26 ноября 2013 г. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — один из тех важнейших памятников русской живописи XV в., изучение которых дает основание судить о стилистическом облике целой эпохи. Этот выдающийся по уровню исполнения ансамбль, связываемый преданием с именем Андрея Рублева, датируется на основании письменных источников 20-ми годами XV в. Значительные изменения стиля живописи в данном памятнике по сравнению с более ранним этапом творчества Рублева давали основание многим исследователям выделять троицкие иконы как особую и важную веху в истории искусства Москвы XV в., видеть в них ключ к пониманию тех процессов, что происходили в живописи того времени и последующих периодов.
Тем не менее, сегодня в научной литературе отсутствует единая концепция периодизации искусства XV в. В частности, значительные разногласия вызывает оценка этапа, охватывающего вторую четверть столетия, нет единства в понимании того, какое место в нем принадлежит троицкому иконостасу. С точки зрения одних исследователей, он завершает предшествующий этап развития, в понимании других — открывает новый период. Трудность состоит не только в недостаточной изученности искусства второй четверти XV в., но и в различии критериев, используемых учеными при определении стилистических особенностей данного памятника. Сопоставление существующих в литературе понятий, критериев стилистических оценок, к которым обращаются авторы для построения системы периодизации истории развития художественного процесса на протяжении XV в., позволяет выявить и, хотя бы, отчасти устранить те неточности и противоречия, которые мешают им сделать эту периодизацию достаточно убедительной. В научной литературе долгое время доминировала эволюционная концепция, основанная на постулировании идеи существования определенной закономерности, связанной с регулярной сменой фаз стилистического развития. Согласно ей московская живопись первой трети XV в. рассматривалась как переходная стадия между двумя фазами — «живописной» в «графической». Наиболее последовательно эта точка зрения была изложена в трудах В.Н. Лазарева [1]. Одним из главных доказательств обоснованности данного положения ученый и его последователи видели в стилистической неоднородности праздничных и деисусных икон троицкого иконостаса. Эта неоднородность и, соответственно, «переходный» характер их стиля, по мнению исследователей, объясняется тем, что наряду с Рублевым иконостас писали художники разных поколений — и его старшие современники, чье искусство еще не было затронуто влиянием сформулированных им художественных идей, и молодые мастера, давшие формам, найденным Рублевым, новое направление развития. Во многом такое мнение основывалось на представлении о неизменности стиля живописи самого Андрея Рублева на протяжении всего его творчества. Такой взгляд объясняет, почему многие исследователи, в том числе и Н.А. Демина[2], связывали датировку знаменитой «Троицы» со временем создания троицкого иконостаса. В трудах В.Н. Лазарева, Н.А. Деминой и во многом следовавших за ними Г.И. Вздорнова и Г.В. Попова было развито положение о том, что некоторые троицкие иконы восходят еще к традициям конца XIV в. К таким, например, В.Н. Лазарев относил икону «Тайная вечеря», а Г.В. Попов кроме нее называет еще несколько икон деисусного и праздничного ряда, среди них «Спас в силах» и «Омовение ног»[3]. Другие же — небольшая группа икон праздничного ряда: «Явление ангела женам-мироносицам», «Причащение вином», «Распятие», — по мнению этих авторов, открывают новый период в развитии московской живописи, следующий за рублевским и, по существу, являющийся «преддионисиевским». В числе стилистических признаков, которые, как считают авторы, и определили дальнейшее развитие искусства, они называют: акцентирование силуэта, его «прихотливость»[4], изящество и ритм линий, удлиненные пропорции фигур, стройность композиций, миниатюрность форм, тонкую, сплавленную манеру письма, ослабление пластики. Дополняют эту концепцию такие определения как «нежность образов», «утонченность колорита», «рафинированность»[5]. Все перечисленные стилистические признаки, устойчиво ассоциировавшиеся у исследователей с творчеством Дионисия, должны были, прежде всего, указывать на вступление искусства в «графическую» фазу, что, в свою очередь, не позволяло говорить о каком- либо развитии в русском искусстве вплоть до последней трети XV в. В итоге вся последующая история живописи Москвы XV в. представлялась только лишь как процесс «кристаллизации» художественных идей, найденных уже художниками троицкого иконостаса[6]. Соответственно, картина искусства второй и третьей четверти XV в. трактовалась названными авторами не как развитие стиля, проходящего через ряд этапов, каждый из которых обладает своими особенностями, но как сосуществование в границах одной стилистической идиомы нескольких художественных направлений, восходящих к разным группам икон троицкого иконостаса. По мере происходившего на протяжении нескольких последних десятилетий увеличения числа произведений, доступных для научного изучения, которые могут быть датированы временем «между Рублевым и Дионисием», делалось все более очевидным, что в этот период происходило именно развитие стиля, а не только отдельных его ответвлений, однако полноценно охарактеризовать этот процесс невозможно с помощью признаков вступления его в стадии с доминантой «графических» или «живописных» черт. Для решения задачи тонкой стилистической дифференциации памятников, использование терминологии, связанной с концепцией В.Н. Лазарева, оказывается уже не эффективным, она требует значительно большей конкретизации критериев и понятий. По пути более углубленной оценки особенностей образного строя троицких икон пошли в своих исследованиях Н.А. Демина и Г.И. Вздорнов. Н.А. Демина пишет о том, что автору троицких праздников удается наделить художественные образы силой психологического воздействия. Этот художник, по ее словам, — «чуткий артист, умеющий «взволновать и поразить зрителя». Она считает, что те три иконы, в которых обычно видят первые проявления нового стиля («Явление ангела женам-мироносицам», «Распятие», «Причащение вином»), отличает «особая острота в передаче переживаний момента изображенными персонажами»[7]. Г.И. Вздорнов пишет о «сложнейшей психологической драме»[8], которая разыгрывается в иконе «Тайная вечеря». Он описывает разнообразные индивидуальные реакции на совершающееся предательство, которые выражаются не только в позах, достаточно сдержанных, но и в портретных характеристиках «Иоанн припал на грудь Христа и в его глазах читается страх за судьбу учителя»[9]. Принципиально иную характеристику троицким иконам дает Г.В. Попов. Он обращает внимание на обнаруживающийся в них конфликт двух начал — «внутреннего» и «внешнего». По мнению исследователя, здесь дает о себе знать еще один признак, определяемый им как замена «сокровенной» стороны произведения внешней выразительностью. По его словам, «характеристика действующих лиц перестает осмысляться как идеальное соединение конкретных, то есть ... соотнесенных с человеческой личностью качеств». Главным средством психологической характеристики, по его мнению, становится жест[10]. Этому признаку сопутствует усиление роли архитектурных и пейзажных кулис, масштаб которых более точно, чем ранее соответствует человеческой фигуре, в чем справедливо увидел приметы нового этапа в истории искусства Москвы. Он проницательно заметил, что появлению таких композиций сопутствует эффект «панорамности»[11]. Замечания Г.В. Попова выносили проблему за пределы характеристик, которые предлагала концепция В.Н. Лазарева, они расширяли круг понятий и указывали на приметы, говорящие именно о развитии художественного стиля, давая, таким образом, импульс для новых исследований. Характер пространственных связей внутри композиции и особенности организации образного строя каждого произведения стали важнейшими критериями для обоснования принципиально иного взгляда на проблему периодизации искусства XV в. и в целом пересмотра многих старых оценок памятников. Новые подходы к этой проблеме представлены, прежде всего, в трудах Э.С. Смирновой и Е.Я. Осташенко. Они рассматривают искусство XV в. не по направлениям, архаическому или прогрессивному, а определяя особенности каждого этапа эволюции стиля. Эти авторы не противопоставляют друг другу отдельные группы икон в троицком иконостасе, но видят в памятнике стилистически цельный ансамбль, в их понимании, безусловно, более поздний по отношению к «Троице» Рублева. Главное, что объединяет труды этих ученых, — развиваемая ими идея о единстве стилистического развития русской и византийской живописи в первой половине XV в. Как и В.Н. Лазарев, они пишут о том, что в искусстве XV в. происходят серьезнейшие перемены, смена стилистических эпох. Вместо слишком широких категорий: «живописный» — «графический» — авторы определяют суть процесса другой парой понятий: «византийский» — «поствизантийский». Важной вехой в периодизации искусства XV в., по их мнению, является стилистический перелом, знаменующий начало «поствизантийской фазы». Тут необходимо отметить, что Э.С. Смирнова во многом развивает идеи В.Н. Лазарева, согласно мнению которого, в живописи XV в. пострублевского времени постепенно утрачивается гармония, нарушаются классические принципы пропорций в построении композиции. Она также связывает стилистические изменения с угасанием античной традиции и более резким обозначением национальных черт из-за ослабления художественных импульсов, идущих из Византии. Однако в отличие от В.Н. Лазарева, который полагал, что Андрей Рублев был последний, кто работал в русле византийской традиции, Э.С. Смирнова считает, что переломный момент наступает только в середине XV в. и совпадает с захватом турками Константинополя в 1453 г. Позиции этих двух авторов относительно понимания категории «античное» в русской живописи во многом похожи — это гармония и красота форм, которую русские художники черпали в византийской палеологовской традиции. Только В.Н. Лазарев считал, что эти формы были восприняты в раннепалеологовской живописи, а Э.С. Смирнова находит их источник в искусстве, современном русским мастерам XV в. Отличие состоит также в том, что Э.С. Смирнова видит «античное», прежде всего, в гармонии линий и форм, свободном естественном движении («размеренный спокойный ритм плавных контуров, красота и правильность ликов, гармоничность целого»[12]), а В.Н. Лазарев — также во внутренней характеристике образов («мягкости, эмоциональности выражения ликов»[13], в раскрытии внутренней красоты образа[14]). Напротив, Э.С. Смирнова непосредственно с античной традицией открытый внутренний мир образов раннего XV в. не связывает. Она полагает, что такой тип образа раскрывает идеал русской религиозной жизни эпохи преподобного Сергия Радонежского. Однако, как и «античное» начало, это та особенность, которая к середине века постепенно идет на убыль. Вероятно, поэтому те изменения в образной структуре троицких праздников, которые В.Н. Лазарев расценивал как признаки начавшегося отступления от классической меры, распада единства формы и содержания, достигнутого в рублевской «Троице», (описанные им как «граничащая с сентиментальностью мягкость», «миловидность»[15], внешняя привлекательность[16]), для Э.С. Смирновой таковыми не являются.
Таким образом, и В.Н. Лазарев, и Э.С. Смирнова видят в понятии «классическое» категорию стилистического анализа, которую можно использовать как датирующий признак, в том числе, по отношении к искусству первой трети XV в. Увлечение «классицизмом», по мнению Э.С. Смирновой, охватившее всю русскую живопись и раньше всего начавшееся в Москве, нельзя ограничить рамками творчества самого Рублева, то есть первой четвертью XV в., о чем ранее высказывался В.Н. Лазарев. Свое мнение она подтверждает, указывая на «полнокровную классику»[17] некоторых новгородских произведений времени архиепископа Евфимия II, особенно, Панагиар 1435 г. (Новгородский музей). Вместе с тем в «Софийском Деисусе» 1438 г., по словам автора, можно увидеть уже только «реминисценции» былого[18]. Надо сказать, что о классических чертах в русском искусстве XV в. писали многие исследователи уже с ранней поры его изучения, в том числе Н.Н. Пунин, Н.М. Щекотов, а также М.В. Алпатов. По их мнению, классическая основа, понимаемая как гармония целого, сохраняется в русском искусстве на протяжении всего столетия. Поэтому, представляется, что понимание «классического» в таком контексте сложно использовать для определения сущности каждого отдельного этапа в эволюции стиля. Однако уточнение этого понятия, его конкретизация, дает определенные результаты, о чем, в частности, свидетельствуют работы Г.С. Колпаковой[19] и Л.И. Лифшица. Так, Л.И. Лифшиц, развивая идеи М.В. Алпатова, пишет о периодах увлечения античными мотивами, среди которых: величественные позы и жесты, наделенные способностью «передавать сложную гамму эмоций»[20], «эллинская грация»[21], «физическая стать, статуарная выразительность»[22], типы ликов, складки одежд, ощущение пространственной среды, в которой развивается движение фигуры. Появление таких мотивов говорит, прежде всего, о высоком социальном статусе произведения искусства, особенностях культурной среды, к которой принадлежали заказчики, распространении в ней определенных вкусовых предпочтений, увлечении «классическими» образцами, но они не могут быть отнесены к универсальным категориям стиля, так как являются не строго обязательными, доминантными, а, скорее, дополнительными признаками рассматриваемого этапа развития стиля. Один и тот же его этап может по-разному интерпретироваться в живописи Москвы, Новгорода или Пскова. В таком значении «классическое» начало, по мнению Л.И. Лифшица, может служить особым признаком некоторых этапов в искусстве XV в., в частности, рублевского времени, и периода предшествующего распространению «дионисиевского» стиля[23]. Использование критерия «классическое» для решения проблем периодизации в этом контексте, приводит к выводу о том, что троицкие иконы сохраняют связь с позднепалеологовской традицией. Но одновременно возникает вопрос о соотношении понятий «позднепалеологовский стиль» и «поствизантийское искусство». Так, Е.Я. Осташенко использует понятие «поствизантийское искусство» в ином ключе, нежели Э.С. Смирнова. На наш взгляд, она справедливо считает, что и после падения Византийского государства достаточно долго сохранились общие закономерности развития русской живописи и искусства на территориях бывшей Византийской империи. По мнению автора, если судить не по датам, а по сути, уже можно говорить о «поствизантийском» характере живописи троицкого иконостаса, что было обусловлено новыми идеями, которые заметно отличают этот ансамбль от всего предшествующего этапа развития византийского искусства, поскольку в нем наглядно выражен отход от идей исихазма, утрачивается свойственная ему «теофаническая направленность» образного мышления. Вместо этого в искусстве «открывается путь для символического, аллегорического представления божественных тайн. Живопись становится частью более широкой сферы интеллектуальной и [собственно] художественной жизни»[24]. Как существеннейший момент, определяющий направленность развития стиля, исследовательница отмечает возникновение в композиционном решении троицких икон пространственной и временной дистанции, отделяющей изображение от зрителя. Идеи, близкие взглядам Е.Я. Осташенко, присутствуют в работах Г.С. Колпаковой, отметившей, что теперь изображение не пытается преобразовать действительность и слиться с ней, но пытается стать «самодостаточным», то есть существовать параллельно с реальным миром[25]. Такая тенденция, нашедшая впервые выражение в памятниках 1410—1420-х гг., в том числе в иконостасе Троицкого собора, что в свое время отметил и Г.В. Попов, по мнению Е.Я. Осташенко, легли в основу формирования особого стиля, развитие которого приходится на вторую и третью четверть XV в. Вместе с тем автор выделяет Троицкие иконы, как особое явление, проводя границу между ними и такими памятниками живописи 1420—1430-х годов, как, например, миниатюры Аникиева Евангелия (БАН, 34.7.3). Она указывает, что в последних дает о себе знать иной, лишенный былого драматического напряжения принцип соотношения фигур с фоном[26], свидетельствующий о рождении качественно нового пластического стиля, который приходит на смену позднепалеологовскому периоду, являющегося, по мнению автора, началом поствизантийского этапа. Сопоставление концепций Э.С. Смирновой и Е.Я. Осташенко показывает, что, несмотря на то, что исследовательницы часто пользуются схожими критериями, они приходят к противоположным выводам в своем видении памятника. Эффект дистанции, образующейся между изображением и зрителем, который был отмечен Г.В. Поповым и Е.Я. Осташенко в композициях троицких икон, Э.С. Смирнова относит только к произведениям второй трети XV в. Именно с этого времени, по ее словам, композиции «воспринимаются отстраненно, словно через некую преграду, отделяющую их от зрителя»[27]. Новые черты, присутствующие в композиционном построении икон троицкого иконостаса, не кажутся исследовательнице принципиально важными для оценки последующих этапов развития живописного стиля. В описании икон троицкого иконостаса она, также как Г.И. Вздорнов и Н.А. Демина, обращает, прежде всего, внимание на эмоциональную открытость образов. В троицких иконах, по мнению Э.С. Смирновой, сохраняется идеал русской религиозной жизни начала XV в., хотя выражен он не с такой силой, как в раннем рублевском творчестве, но все же «искренне» и «эмоционально». В них звучат идеи, взращенные в исихасткой монастырской среде: «жажда приобщения благодати, печаль трудного духовного пути и радостное умиление от постигаемого»[28]. Этим кратким, но ценным замечанием автор обращает внимание на индивидуальность, разнообразие состояний в изображениях персонажей сцен и фигур Деисусного чина. Таким образом, в своих подходах к проблеме и полученных выводах исследовательницы занимают диаметрально противоположные позиции, касающиеся понимания главного — идейного содержания данного ансамбля. В работах Г.И. Вздорнова, Н.А. Деминой, Г.В. Попова такие противоречия в характеристиках стиля памятника менее ощутимы, поскольку, как уже говорилось, авторы объясняли его специфику работой разных мастеров. Сопоставление авторских позиций, а также основных критериев, которыми руководствовались и во многом продолжают руководствоваться ученые, показывает, что тонкие дефиниции стиля и образные характеристики, данные исследователями троицким иконам, не снимают задачи более точного определения феномена стиля. Так, на наш взгляд, уточнению наиболее важных критериев, таких как взаимоотношение пространства и пластики, характеристика образного строя икон в некоторой степени, может способствовать более пристальное рассмотрение особенностей организации композиционного движения. В троицких иконах существует неглубокое, но активно воздействующее на изображения пространство, охватывающее все фигуры и выходящее на передний план. Движение в этом узком пространстве, идущее из глубины композиции, формирует пластический образ, постепенно отделяющийся от фона. Оно обладает тем качеством, которое Б.Р. Виппер называл «динамикой текучего мгновения»[29]. Это «текучее мгновение», не остановленное, но растянутое до бесконечности время действия, позволяет зрителю переживать его и как концентрированную эмоциональную среду и как ритмический поток, подобный музыке. Одновременно внутри единого композиционного действия — общего молитвенного предстояния — внятно звучит личный диалог каждого святого со Спасителем, что проявляется путем постоянных изменений ритмического рисунка, пауз в движении, которые придают жестам и позам особую индивидуальную выразительность. Эта своеобразная логика ритмических перерывов, существующая в троицких иконах, должна была захватывать и молящегося. Возможно, поэтому к ним не в полной мере применимо определение, согласно которому здесь «разделенными оказались художественное время и реальное время жизни, протекающей перед ним»[30].
Это становится особенно очевидным при сравнении икон Деисусного ряда с памятником более поздним, стиль которого несет черты указанных изменений, — Деисусом из новгородского Софийского собора, который датируется временем около 1438 г. В Софийском Деисусе практически исчезает пространственная среда переднего плана, основную роль в композиции берет на себя пластика. Активное движение формы не встречает сопротивления. Главным, сквозным мотивом является шествие святых ко Христу, которое проходит через все иконы, так что можно представить их написанными на одной доске. Вместе с тем, движение теряет целостность, распадается на отдельные изолированные и остановленные позы, жесты. Они становятся однообразными, не ставятся в связь с выражениями ликов. Именно в таких памятниках существует полный разрыв между текстом и изображением, и их единство воссоздается только на уровне интеллектуального восприятия. Поэтому представляется правильнее видеть в троицких иконах стремление мастеров все еще удержать былое единство. Наметившийся разрыв между миром зрителя и иконным образом, отмечаемый Е.Я. Осташенко, сочетается в иконах троицкого иконостаса с очевидным усилением тех черт индивидуального поведения, которые некоторые авторы определяют понятием «психологизм», которых мы уже не находим в живописи 1430-х годов и последующих десятилетий. Одновременно в образном строе троицких икон появляется то драматическое напряжение, то чувство отсутствия личной свободы, предопределенности событий, судьбы персонажей сцен, которого не было в живописи самого начала столетия. Этим, видимо, объясняется то обостренное внимание к фиксации состояний действующих лиц, развивающихся в одном и том же пространстве, то чувство протекающего времени события, которого не было в искусстве предшествующего этапа и не будет позже. Действительно, как отмечали многие исследователи, стиль троицких икон представляет ближайшую аналогию фрескам монастыря Каленич в Сербии[31] и кафоликона монастыря Пантанассы в Мистре32 около 1429 г., которые, по мнению Дулы Мурики, завершают историю собственно византийской живописи. Именно в один ряд с такими памятниками должен быть поставлен иконостас Троицкого собора. Глубокая осмысленность этических и художественных проблем мастерами, его создавшими, делают этот ансамбль одним из самых выдающихся памятников позднепалеологовское искусства. Вместе с тем, они знаменуют наступление последнего этапа его истории, внутри которого вызревают идеи, которые будут во много определять характер искусства уже иной — поствизантийской эпохи. ПРИМЕЧАНИЯ [1] Лазарев В.Н. Живопись и скульптура великокняжеской Москвы // История русского искусства. М., 1955. Т. 3. С. 71-214; Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966; Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986. [2] Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. М. 1972 (далее — Демина, 1972). С. 47. [3] Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М., 1975 (далее - Попов, 1975). С. 9. [4] Попов, 1975. С. 25. [5] Демина, 1972. С. 88,93. [6] Попов, 1975. С. 39. [7] Демина, 1972. С. 165. [8] Вздорное Г.И. Живопись// Очерки русской культуры XIII —XV веков. 4. 2: Духовная культура. М., 1970 (далее - Вздорное, 1970). С. 349. [9] Вздорное, 1970. С. 347. [10] Попов, 1975. С. 31. [11] Попов, 1975. С. 25. [12] Смирнова Э.С. Очерк истории новгородской живописи XV века // Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода, XV век. 1982 (далее - Смирнова, 1982). С.76. [13] Лазарев В.Н. Живопись и скульптура... С. 103. [14] Там же. С. 124. [15] Там же. С. 188. [16] Лазарев В.Н. Русское централизованное государство. Дионисий и его школа. // История русского искусства. Т. 3. С. 531. [17] Смирнова, 1982. С. 76. [18] Смирнова, 1982. С. 76. [19] Колпакова Г.С. Фрески. Около 1412 г. // Галашевич А.А., Колпакова Г.С. Храм Рождества Богородицы в Городне на Волге. М. 2004 (далее - Колпакова, 2004). С. 144. [20] Лифшиц Л.И. О границе понятий «дионисиевский стиль» и «стиль Дионисия»//Древнерусское и поствизантийское искусство: Вторая половина XV- начало XVI века. М., 2005 (далее -Лифшиц, 2005). С. 144. [21] Лифшиц, 2005. С. 146. [22] Лифшиц, 2005. С. 144. [23] Лифшиц, 2005. С. 146. [24] Осташенко Е.Я. Особенности развития древнерусской живописи второй четверти — середины XV века // Труды Государственного Эрмитажа XVII: Византия в контексте мировой культуры. СПб. 2008 (далее - Осташенко, 2008). С. 444. [25] Колпакова, 2004. С. 140. [26] Осташенко, 2008. С. 446. [27] Смирнова, 1982. С.68. [28] Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988. С. 30. [29] Виппер Б.Р. Из «Введения в историческое изучение искусства» // Статьи об искусстве. М„ 1970. С. 321. [30] Осташенко Е.Я. Икона «Троица Ветхозаветная» из Сергиево-Посадского музея-заповедника и проблема стиля живописи первой трети XV в // Древнерусское искусство: Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура. СПб., 2002. С. 332. [31] Симиh-Лазар Д. Каленниh: Сликарство, историjа. Крагуjевац, 2000. Mouriki D. The wall painting in the Pantanassa at Mistra: models of a painter's workshop in the fifteenth centuary //The twilight of Byzantium. Princeton, 1991. Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой лавры
|





