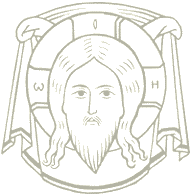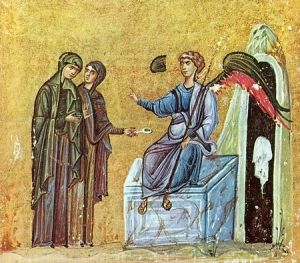Проповедь произнесенная в Покровском академическом храме за
Божественной литургией в Неделю святых жен-мироносиц 18 апреля 2010 года.
18 апреля 2010 г.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Христос
воскресе!
Нынешнее
воскресенье – третье по Пасхе – посвящено воспоминанию тех святых людей,
которые были свидетелями погребения Христова. Это жёны-мироносицы, а также
праведные Иосиф Аримафейский и Никодим. Очевидно, что полагая это празднование
в столь непосредственной близости к Христову Воскресению, Церковь спешит
напомнить нам в эти радостные пасхальные дни что-то необычайно важное, а не
только даёт повод поздравить окружающих нас женщин с «православным женским
днём».
Как
это ни прозвучит парадоксально, но сегодня Церковь прославляет мужество.
Мужество тех, кто остался со Христом, когда ученики Его – то есть апостолы –
испугались и убежали. Мужество Иосифа, члена Синедриона, посмевшего просить
Тело Христа у Пилата, и не испугавшегося преследований иудеев. Иосиф отдаёт для
погребения и свою собственную пещеру, тем самым свидетельствуя об
исключительном отношении к Распятому. Мы также чтим мужество и Никодима – и так находившегося под подозрением
в следовании за Христом, который под пристальным взглядом фарисеев приносит
благовония для погребения Распятого Господа. Мы также преклоняемся и перед
мужественным поступком жён-мироносиц, которые посмели принести благовония к
гробу Христову, прекрасно зная, что там их встретят вовсе не друзья Христовы, а
военная охрана и запечатанный гроб. И самое главное: о том, что Христос
воскреснет, пока не знает никто.
Как
часто, когда идёт речь о вере, мы рисуем доводами разума и яркими житейскими
примерами достаточно узкий коридор, в который, как нам кажется, и должен войти
наш собеседник, если только он не последний
злодей. И как бывает обидно, когда этот столь желанный нами шаг так и
оказывается не сделан, с нашей точки зрения совершенно непонятно, почему.
Таинство веры оказывается невзламываемым даже самым изощрённым верующим умом.
Мы оказываемся в странном положении: Иосиф и Никодим, да и жёны, не знали, что
Христос воскреснет, и шли бесстрашно к Его Распятому и Погребенному Телу – а
мы, Воскресение Христово видевшие, не можем убедить других хотя бы раз
переступить порог храма?
Была
ли вера у мироносиц, когда они шли с уготованными ароматами? Ведь то, что
произошло у них на глазах, было страшной трагедией – личной трагедией каждой из
них, лишившихся в одно мгновение своего любимого Учителя. Да, они ревели от
горя – и этот плач мы слышим сквозь песнопения Страстной седмицы – но никто,
никто кроме Иуды, не отчаялся. Даже тот, кто трижды отрёкся. Даже те, кто не
вынесли ужаса Голгофы и бежали. Если не отчаялись – значит, всё-таки надежда чем-то
питалась.
Но
действительно ли требовал Христос от Своих учеников веры? Ответ на этот
казалось бы простой вопрос вовсе не очевиден. Да, Он действительно много
говорил о вере в Него, но никогда эта вера не становилась вяжущим
«обязательством» апостолов по отношению к Нему. Вера – всегда «условие», но не
«обязательство». Веру бессмысленно навязывать: её можно только родить, родить
самому, и зачастую рожать долго и мучительно.
Когда
руки Никодима и Иосифа снимали бездыханное тело Учителя с Креста, когда пальцы
мироносиц умащали его ароматами – они понимали всем своим существом, что всё
это не может быть концом. Когда в один миг рушатся все надежды – открывается
новый и чистый горизонт. Для каждого из тех, кто погребал Спасителя, этим
горизонтом была готовность и дальше любить Его вопреки всему: вопреки тому, что
Он – мёртв и бездыханен; вопреки торжествующей злобе и презрению иудеев; любить
вопреки здравому смыслу и житейскому опыту. Ведь только любовь побеждает
смерть. Именно эта любовь и гонит их сквозь предрассветную тьму ко гробу, эта
любовь побеждает страх и недоумение, кто отвалит тяжёлый камень, и эта же
любовь застилает слезами глаза и видит в Воскресшем Христе садовника.
В
той любви, которая спасла мироносиц от безнадежности и стала фундаментом спасающей
веры, ярко проступают две особенности: любовь всегда есть внимание – и любовь
всегда есть память.
Каждого
из нас Святая Церковь вооружила действенным средством против главных врагов
нашей любви к Богу – безразличия и забвения. Когда святителю Феофану Затворнику
жаловались на окамененное нечувствие и холодность к духовной жизни, он отвечал
просто: «А ты потри-потри сердце искренней молитвой – оно и согреется!» Тот,
кто любит – бережёт то, что ему дорого, в своём сердце: его мысли и чувства,
даже будучи заняты чем-то другим, снова и снова возвращаются к самому главному
и дорогому. Кто любит Бога – тот помнит
о Нём в своём сердце и постоянно внимает Ему: такое постоянное возвращение к
сокровенному предстоянию перед Богом святитель Феофан называл «внутрь-пребыванием»,
той самой «клетью внутри» человека, куда можно укрыться из любой суеты и
обстояния.
И
пример мироносиц показывает нам, что нет ничего тверже и мужественнее этого
мягкого сердца, исполненного состраданием и целиком поглощенного Любимым.
Именно эта любовь и верность Любимому сделала мироносиц «апостолами апостолов»
– ведь именно они принесли весть апостолам о Воскресении Христовом.
Будем
же, дорогие братья и сёстры, и в эти пасхальные дни, когда уже нет
ограничивающего нас поста, помнить о том, что мера любви нашего сердца равна
мере нашего внимания и памяти о Боге и ближних!
Аминь.